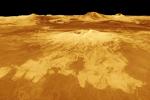Харакири по всем правилам

6 марта 1929 года произошло событие, которое взбудоражило всю Москву. Японский военно-морской атташе Кисабуро Коянаги покончил с собой - у себя дома, в квартире на Новинском бульваре.
Расследованием занялись сотрудники ОГПУ, а со стороны НКИД - заведующий протокольным отделом Дмитрий Флоринский. Его рабочие записи, воспоминания дипломатов и другие материалы позволяют восстановить подробности этого прискорбного происшествия.
Незадолго до самоубийства, 26 февраля, популярнейшая в столице газета «Вечерняя Москва» напечатала заметку под броским заголовком «"Подвиги» капитана Коянаги". Для советской прессы факт необычный. Интимные подробности жизни дипломатов, особенно пикантные и «неприличные», не было принято предавать публичной огласке. Но не в этот раз...
Приведём текст заметки полностью: «В доме N44 по Новинскому бульвару, жильцы, обитающие по соседству с кв. 22, не имеют покоя от постоянных пьяных оргий и дебошей, устраиваемых в своей квартире (квартира 22) японцем Кисабуро Коянаги, капитаном 1-го ранга, состоящим морским атташе японского посольства. Эти дикие оргии, сопровождающиеся побоищами, делают соседство с таким жильцом невыносимым.
3 февраля капитан Коянаги устроил на этой квартире очередной вечер, на который пригласил советских граждан, в том числе и женщин.
«Приём» на этот раз закончился грандиозным скандалом и побоищем, учинённым Коянаги. Особенно сильно пострадавшей от гостеприимства «знатного иностранца» оказалась советская гражданка, — его же учительница русского языка, отклонившая упорное приставание храброго капитана и не пожелавшая удовлетворить его прихоть. Оскорблённый неудачей, капитан Коянаги, в пылу страсти, тут же за столом запустил в учительницу столовым ножом. Обезумевшая и окровавленная женщина бросилась бежать, а атташе Коянаги вдогонку ей начал бросать со стола посуду и т. п. В коридор за женщиной полетели даже стулья и прочая мебель, с грохотом разбиваясь о стены и пол… В передней квартиры этот «дипломатический» вечер закончился общей свалкой гостей.
Следовало бы указать подобным дипломатам, что хулиганство у нас преследуется по закону. Почему не вмешается в это дело милиция или Наркоминдел, чтобы, наконец, положить предел этим оргиям и дать возможность спокойно отдыхать трудящимся названного дома».
Коянаги действительно злоупотреблял спиртным и в состоянии опьянения нередко устраивал ссоры и драки. Однако не он единственный, в дипкорпусе имелись и другие возмутители спокойствия, и их эскапады и бесчинства обыкновенно замалчивались.
Сорокатрёхлетний капитан 1-го ранга был профессиональным разведчиком, его должность это подразумевала. Россию немного знал, побывал на нашем Дальнем Востоке в составе японского экспедиционного корпуса во время Гражданской войны. А в Москву приехал в 1927-м, спустя два года после установления дипломатических отношений. Они, к слову сказать, поначалу развивались неплохо. Токио тогда ещё не вступил на путь экспансии и агрессии. Первый японский посол в Советском Союзе Танака Токити даже уверял, «что в Японии нет предрассудков против представителей соввласти, как в других странах Европы и Америки».
Отношение к японцам отличалось благожелательностью, до враждебных настроений (в духе строки из культовой песни — «…и летели наземь самураи») было далеко. Однако военно-морской атташе с самого начала вызывал неприязнь у нкидовцев и чекистов, внимательно за ним наблюдавших. Ему явно не хватало такта, осторожности и сдержанности. Зато напористости, бесцеремонности и наглости в его поведении было хоть отбавляй.
Однажды работник НКИД Владимир Соколин поинтересовался у Коянаги, хорошо ли тот знает Японию. Военно-морской атташе ответил, «что знает, за исключением Камчатки». На вопросительный взгляд Соколина отреагировал такой репликой: «Всё равно, братские народы».
Вряд ли японский офицер плохо знал географию, скорее всего, просто выдавал желаемое за действительность. При этом имел в виду, конечно, не русских, в которых ничего «братского» не видел, а коренных жителей полуострова, камчадалов. Как и другим азиатским народам, с точки зрения японцев им следовало тянуться к Токио, который собирался устроить «зону сопроцветания Азии», захватив весь Дальний Восток и вообще Тихоокеанский регион, «освободив» коренное население от иностранных колонизаторов. В данном случае колонизаторами и врагами были русские, а туземцы, знамо дело, объявлялись родственными народами по духу и по крови.
В июле 1928 года НКИД и советское военное командование отказали Коянаги в «осмотре Кронштадта и Балтийского флота». Когда шеф протокола сообщил об этом Коянаги, японец принялся угрожать: мол, «вашему морскому агенту в Японии будут отказывать в осмотре тех морских сооружений, доступ к которым открыт морским агентам других стран». Такие неприкрытые угрозы не укладывались в рамки корректного дипломатического общения. Флоринский констатировал: «Такое развязное заявление меня не удивило, ибо во время моей недавней поездки по югу я имел возможность лично наблюдать в Севастополе исключительную наглость, с которой держит себя Коянаги, а затем на Кавказе и даже в Тегеране мне рассказывали об его неслыханной бесцеремонности, которую наши моряки объясняли, как своеобразный способ разведки».
Но этим разговор не закончился. Коянаги «бесцеремоннейшим образом» стал расспрашивать Флоринского о его прошлом, «родителях и предках». Японец, как и многие в дипкорпусе, знал особенности биографии шефа протокола (который прежде служил в царском МИД) и давал понять, что мог бы это использовать для шантажа.
У советской контрразведки, которая «пасла» Коянаги, терпение в конце концов лопнуло. Манера поведения военно-морского атташе раздражала, кроме того, свою роль могли сыграть неудачные попытки завербовать японца. Японские исследователи указывают ещё на контакты Коянаги с военными балтийских стран (якобы он даже тайно ездил в Ригу) в расчёте на то, чтобы придать их сотрудничеству антисоветскую направленность и подтолкнуть к сближению с Польшей. Это могло дополнительно вызвать раздражение в ОГПУ и НКИД.
Так или иначе, было принято решение дискредитировать военно-морского атташе с прицелом на высылку из страны. Свою роль в этой акции сыграла учительница русского языка, нанятая Коянаги, а в роли таких учительниц чаще всего выступали агентессы ОГПУ. Обо всех деталях судить сложно, однако скандальный материал в «Вечёрке» не могли напечатать без указания органов госбезопасности. Это хорошо понимали в дипкорпусе. Латвийский посланник Карлис Озолс писал в своих мемуарах: «В Москве прекрасно знали, что в советских газетах не может появиться ни единой строки об иностранных представительствах без ведома НКИД. Поэтому все дипломаты были крайне удивлены, когда однажды прочли в «Вечер- ней Москве» о скандале с японским военным атташе на квартире его машинистки, где с шумом ломалась и выбрасывалась в окно квартиры мебель».
Озолс кое-что путает: женщина была не машинисткой, а учительницей (в этом «Вечёрке» можно было верить), и дебош имел место на квартире самого Коянаги. Но резонанс был, конечно, огромный.
Французский посол Жан Эрбетт в беседе с Флоринским назвал заметку в «Вечерней Москве» недопустимой и выражал своё мнение «в самых резких выражениях». Заведующий отделом протокола, с одной стороны, спорил, говорил, что Эрбетт не прав и «пресса в других странах позволяет себе и более резкие выпады», а с другой, — намекал на то, что у газетной заметки есть более глубокие причины, о которых он не считал возможным распространяться.
А вот о самоубийстве Коянаги вымуштрованные советские газеты и словом не обмолвились. Зато сарафанное радио cработало отменно, и об этом инциденте судачила вся Москва. Самым простым было объяснить поступок Коянаги действием алкоголя, дескать, напился иностранец до чёртиков. Тем не менее многие догадывались, что военно-морского атташе толкнули на отчаянный шаг не только бытовые разборки или помрачение рассудка из-за неумеренных возлияний. Свою роль сыграла секретная операция контрразведки, в которой принимал участие и Роман Ким, сотрудник японского отдела ИНО ОГПУ, в дальнейшем известный советский разведчик и писатель, автор шпионских романов.
Ким был так называемым коноводом: он руководил агентами-женщинами, умными и хорошенькими, их подставляли японским дипломатам и разведчикам, работавшим под «крышей» посольства и в военном атташате. Чаще всего под предлогом обучения русскому языку. Такой была и учительница Коянаги.
В тот памятный вечер она напоила своего работодателя и возлюбленного, а потом с помощью горничной и некоего «доктора» (тоже работавших на ОГПУ) попыталась открыть сейф с секретными документами. Внезапно очнувшийся Коянаги помешал этому, завязалась драка, и агентам пришлось покинуть квартиру. Таким образом, заметка в «Вечерней Москве» явилась своего рода попыткой замести следы и одновременно скомпрометировать японского военного дипломата. Что в конечном счёте удалось.
Коянаги доложил о происшествии в Токио и получил распоряжение покинуть Москву. Вина за провал — полностью или частично — лежала на нём. Не надо было пить, заводить любовницу и прочие вредные знакомства. Что оставалось? Поступить как положено истинному самураю, у которого затронута честь, — совершить ритуальное харакири.
Свидетельство Озолса: «Смерть японского атташе стала реваншем, публичной расплатой чекистов за подстроенный позор. Морально японец победил ГПУ и НКИД, которые хотели дискредитировать в глазах мира и его самого, и его страну».
С утверждением о «моральной победе» можно не соглашаться. Хотя японец заслуживал сочувствия, его нравственные устои явно оставляли желать лучшего. Но в свой последний час проявил мужество и достоинство, как того требовали его представления об этике и национальные традиции.
Флоринскому сообщили о смерти военно-морского атташе в два часа ночи по телефону. Он тотчас отправился на квартиру японца вместе с управляющим делами НКИД Борисом Канторовичем и заведующим 2-м Дальневосточным отделом Бенедиктом Козловским. Прибыв на место, они застали в кабинете Коянаги весь состав посольства в полном сборе — «в чёрном и чёрных галстуках».
Харакири, записал Флоринский, было сделано по всем правилам. Военно-морской атташе вспорол себе живот коротким японским мечом. Правда, врач скорой помощи, которого привезли с собой сотрудники НКИД, указал в составленном и подписанном им свидетельстве другую причину смерти: «перерезал себе горло».
У Флоринского были сомнения относительно того, что Коянаги сумел сделать это сам, с уже вспоротым животом. И доверительно попросил врача «установить исключительно для нашего сведения, совершил ли Коянаги над собой харакири один или же ему кто-то помогал (по ритуалу самоубийца распарывает себе живот, а ближайший его друг должен перерезать ему горло)». Однако абсолютно точно определить это так и не удалось.
Но обратим внимание на следующую деталь. Коянаги находился в квартире не один, а с помощником Матсумото. И коллега Коянаги, Фунао Миякава, изложил следующую версию событий: «Помощник Матсумото работал в соседней комнате, когда услышал зовущий его спокойный голос Коянаги, он вошёл в его комнату и увидел Коянаги со вскрытым животом и перерезанным горлом; Коянаги также спокойно отдал ему ряд распоряжений и последними его словами было предложение известить посольство; он держал себя героем; Коянаги был уже мёртв, когда приехали чины посольства».
Показания Матсумото вызвали определённое недоверие. Если у Коянаги уже было перерезано горло (якобы им самим), как он мог «спокойно» отдать ряд распоряжений и передать просьбу известить посольство? Словом, нельзя исключать, что горло военному атташе перерезал Матсумото, по просьбе самого Коянаги.
Церемонию прощания устроили торжественную. Присутствовали практически все дипломаты, «кроме мексиканца, монголов и тувинцев». Их вообще не оповестили, возможно, потому, что организацией занимался дуайен дипкорпуса Эрбетт, не рассматривавший этих дипломатических представителей как достойных внимания. Были венки от дипкорпуса и от Реввоенсовета СССР. Эрбетт ехидно поинтересовался у Флоринского, будет ли венок от «Вечерней Москвы». На что шеф протокола довольно-таки жёстко ответил, что «не слышал вопроса и посол должен это понять». В то же время и Эрбетту, и другим дипломатам он доказывал, что «такому самураю, каким показал себя Коянаги, вероятно, было в высокой степени безразлично, что о нём может писать «Вечёрка», но что на него мог, конечно, подействовать факт состоявшегося его отозвания из Москвы».
Урну с прахом захоронили на Донском кладбище, а вечером, после траурной церемонии, НКИД устроил приём, и прошёл слух, что многие дипломаты на него не придут — в знак протеста. Но пришли почти все.
После истории с Коянаги японцы всех неженатых дипломатов в Москве заменили на женатых, чтобы уберечь от «медовых ловушек». 3-й секретарь посольства Масахира Шимода говорил, что «японские жёны хотят во что бы то ни стало жить в Москве с мужьями». А Эрбетт «в повышенном тоне» заявил, что «секретари французского посольства получили распоряжение не встречаться более с русскими женщинами, чтобы не попасть как бедный Коянаги в провокационную историю» и что «его секретари могут встречаться с русскими рабочими, крестьянами, советскими чиновниками, но никаких женщин».
Шеф протокола резонно возразил, мол, невозможно строить общение с представителями страны пребывания по гендерному признаку и полностью избежать контактов с прекрасной половиной советского населения по определению немыслимо. Упомянул в этой связи свою жену, полпреда Александру Коллонтай и других номенклатурных дам, которым разрешалось встречаться с иностранцами. Но сверхэмоциональный Эрбетт не желал ничего слышать и «закончил нервным выкриком, что его решение непоколебимо, ибо он не может рисковать честью французского посольства».
«Неприятность», случившаяся с военно-морским атташе, омрачила отношения Москвы и Токио, которые вскоре начали стремительно ухудшаться. Но это уже совсем другая история...Автор: А.Рудницкий
Источник: "Дилетант"
Расследованием занялись сотрудники ОГПУ, а со стороны НКИД - заведующий протокольным отделом Дмитрий Флоринский. Его рабочие записи, воспоминания дипломатов и другие материалы позволяют восстановить подробности этого прискорбного происшествия.
Незадолго до самоубийства, 26 февраля, популярнейшая в столице газета «Вечерняя Москва» напечатала заметку под броским заголовком «"Подвиги» капитана Коянаги". Для советской прессы факт необычный. Интимные подробности жизни дипломатов, особенно пикантные и «неприличные», не было принято предавать публичной огласке. Но не в этот раз...
Приведём текст заметки полностью: «В доме N44 по Новинскому бульвару, жильцы, обитающие по соседству с кв. 22, не имеют покоя от постоянных пьяных оргий и дебошей, устраиваемых в своей квартире (квартира 22) японцем Кисабуро Коянаги, капитаном 1-го ранга, состоящим морским атташе японского посольства. Эти дикие оргии, сопровождающиеся побоищами, делают соседство с таким жильцом невыносимым.
3 февраля капитан Коянаги устроил на этой квартире очередной вечер, на который пригласил советских граждан, в том числе и женщин.
«Приём» на этот раз закончился грандиозным скандалом и побоищем, учинённым Коянаги. Особенно сильно пострадавшей от гостеприимства «знатного иностранца» оказалась советская гражданка, — его же учительница русского языка, отклонившая упорное приставание храброго капитана и не пожелавшая удовлетворить его прихоть. Оскорблённый неудачей, капитан Коянаги, в пылу страсти, тут же за столом запустил в учительницу столовым ножом. Обезумевшая и окровавленная женщина бросилась бежать, а атташе Коянаги вдогонку ей начал бросать со стола посуду и т. п. В коридор за женщиной полетели даже стулья и прочая мебель, с грохотом разбиваясь о стены и пол… В передней квартиры этот «дипломатический» вечер закончился общей свалкой гостей.
Следовало бы указать подобным дипломатам, что хулиганство у нас преследуется по закону. Почему не вмешается в это дело милиция или Наркоминдел, чтобы, наконец, положить предел этим оргиям и дать возможность спокойно отдыхать трудящимся названного дома».
Коянаги действительно злоупотреблял спиртным и в состоянии опьянения нередко устраивал ссоры и драки. Однако не он единственный, в дипкорпусе имелись и другие возмутители спокойствия, и их эскапады и бесчинства обыкновенно замалчивались.
Сорокатрёхлетний капитан 1-го ранга был профессиональным разведчиком, его должность это подразумевала. Россию немного знал, побывал на нашем Дальнем Востоке в составе японского экспедиционного корпуса во время Гражданской войны. А в Москву приехал в 1927-м, спустя два года после установления дипломатических отношений. Они, к слову сказать, поначалу развивались неплохо. Токио тогда ещё не вступил на путь экспансии и агрессии. Первый японский посол в Советском Союзе Танака Токити даже уверял, «что в Японии нет предрассудков против представителей соввласти, как в других странах Европы и Америки».
Отношение к японцам отличалось благожелательностью, до враждебных настроений (в духе строки из культовой песни — «…и летели наземь самураи») было далеко. Однако военно-морской атташе с самого начала вызывал неприязнь у нкидовцев и чекистов, внимательно за ним наблюдавших. Ему явно не хватало такта, осторожности и сдержанности. Зато напористости, бесцеремонности и наглости в его поведении было хоть отбавляй.
Однажды работник НКИД Владимир Соколин поинтересовался у Коянаги, хорошо ли тот знает Японию. Военно-морской атташе ответил, «что знает, за исключением Камчатки». На вопросительный взгляд Соколина отреагировал такой репликой: «Всё равно, братские народы».
Вряд ли японский офицер плохо знал географию, скорее всего, просто выдавал желаемое за действительность. При этом имел в виду, конечно, не русских, в которых ничего «братского» не видел, а коренных жителей полуострова, камчадалов. Как и другим азиатским народам, с точки зрения японцев им следовало тянуться к Токио, который собирался устроить «зону сопроцветания Азии», захватив весь Дальний Восток и вообще Тихоокеанский регион, «освободив» коренное население от иностранных колонизаторов. В данном случае колонизаторами и врагами были русские, а туземцы, знамо дело, объявлялись родственными народами по духу и по крови.
В июле 1928 года НКИД и советское военное командование отказали Коянаги в «осмотре Кронштадта и Балтийского флота». Когда шеф протокола сообщил об этом Коянаги, японец принялся угрожать: мол, «вашему морскому агенту в Японии будут отказывать в осмотре тех морских сооружений, доступ к которым открыт морским агентам других стран». Такие неприкрытые угрозы не укладывались в рамки корректного дипломатического общения. Флоринский констатировал: «Такое развязное заявление меня не удивило, ибо во время моей недавней поездки по югу я имел возможность лично наблюдать в Севастополе исключительную наглость, с которой держит себя Коянаги, а затем на Кавказе и даже в Тегеране мне рассказывали об его неслыханной бесцеремонности, которую наши моряки объясняли, как своеобразный способ разведки».
Но этим разговор не закончился. Коянаги «бесцеремоннейшим образом» стал расспрашивать Флоринского о его прошлом, «родителях и предках». Японец, как и многие в дипкорпусе, знал особенности биографии шефа протокола (который прежде служил в царском МИД) и давал понять, что мог бы это использовать для шантажа.
У советской контрразведки, которая «пасла» Коянаги, терпение в конце концов лопнуло. Манера поведения военно-морского атташе раздражала, кроме того, свою роль могли сыграть неудачные попытки завербовать японца. Японские исследователи указывают ещё на контакты Коянаги с военными балтийских стран (якобы он даже тайно ездил в Ригу) в расчёте на то, чтобы придать их сотрудничеству антисоветскую направленность и подтолкнуть к сближению с Польшей. Это могло дополнительно вызвать раздражение в ОГПУ и НКИД.
Так или иначе, было принято решение дискредитировать военно-морского атташе с прицелом на высылку из страны. Свою роль в этой акции сыграла учительница русского языка, нанятая Коянаги, а в роли таких учительниц чаще всего выступали агентессы ОГПУ. Обо всех деталях судить сложно, однако скандальный материал в «Вечёрке» не могли напечатать без указания органов госбезопасности. Это хорошо понимали в дипкорпусе. Латвийский посланник Карлис Озолс писал в своих мемуарах: «В Москве прекрасно знали, что в советских газетах не может появиться ни единой строки об иностранных представительствах без ведома НКИД. Поэтому все дипломаты были крайне удивлены, когда однажды прочли в «Вечер- ней Москве» о скандале с японским военным атташе на квартире его машинистки, где с шумом ломалась и выбрасывалась в окно квартиры мебель».
Озолс кое-что путает: женщина была не машинисткой, а учительницей (в этом «Вечёрке» можно было верить), и дебош имел место на квартире самого Коянаги. Но резонанс был, конечно, огромный.
Французский посол Жан Эрбетт в беседе с Флоринским назвал заметку в «Вечерней Москве» недопустимой и выражал своё мнение «в самых резких выражениях». Заведующий отделом протокола, с одной стороны, спорил, говорил, что Эрбетт не прав и «пресса в других странах позволяет себе и более резкие выпады», а с другой, — намекал на то, что у газетной заметки есть более глубокие причины, о которых он не считал возможным распространяться.
А вот о самоубийстве Коянаги вымуштрованные советские газеты и словом не обмолвились. Зато сарафанное радио cработало отменно, и об этом инциденте судачила вся Москва. Самым простым было объяснить поступок Коянаги действием алкоголя, дескать, напился иностранец до чёртиков. Тем не менее многие догадывались, что военно-морского атташе толкнули на отчаянный шаг не только бытовые разборки или помрачение рассудка из-за неумеренных возлияний. Свою роль сыграла секретная операция контрразведки, в которой принимал участие и Роман Ким, сотрудник японского отдела ИНО ОГПУ, в дальнейшем известный советский разведчик и писатель, автор шпионских романов.
Ким был так называемым коноводом: он руководил агентами-женщинами, умными и хорошенькими, их подставляли японским дипломатам и разведчикам, работавшим под «крышей» посольства и в военном атташате. Чаще всего под предлогом обучения русскому языку. Такой была и учительница Коянаги.
В тот памятный вечер она напоила своего работодателя и возлюбленного, а потом с помощью горничной и некоего «доктора» (тоже работавших на ОГПУ) попыталась открыть сейф с секретными документами. Внезапно очнувшийся Коянаги помешал этому, завязалась драка, и агентам пришлось покинуть квартиру. Таким образом, заметка в «Вечерней Москве» явилась своего рода попыткой замести следы и одновременно скомпрометировать японского военного дипломата. Что в конечном счёте удалось.
Коянаги доложил о происшествии в Токио и получил распоряжение покинуть Москву. Вина за провал — полностью или частично — лежала на нём. Не надо было пить, заводить любовницу и прочие вредные знакомства. Что оставалось? Поступить как положено истинному самураю, у которого затронута честь, — совершить ритуальное харакири.
Свидетельство Озолса: «Смерть японского атташе стала реваншем, публичной расплатой чекистов за подстроенный позор. Морально японец победил ГПУ и НКИД, которые хотели дискредитировать в глазах мира и его самого, и его страну».
С утверждением о «моральной победе» можно не соглашаться. Хотя японец заслуживал сочувствия, его нравственные устои явно оставляли желать лучшего. Но в свой последний час проявил мужество и достоинство, как того требовали его представления об этике и национальные традиции.
Флоринскому сообщили о смерти военно-морского атташе в два часа ночи по телефону. Он тотчас отправился на квартиру японца вместе с управляющим делами НКИД Борисом Канторовичем и заведующим 2-м Дальневосточным отделом Бенедиктом Козловским. Прибыв на место, они застали в кабинете Коянаги весь состав посольства в полном сборе — «в чёрном и чёрных галстуках».
Харакири, записал Флоринский, было сделано по всем правилам. Военно-морской атташе вспорол себе живот коротким японским мечом. Правда, врач скорой помощи, которого привезли с собой сотрудники НКИД, указал в составленном и подписанном им свидетельстве другую причину смерти: «перерезал себе горло».
У Флоринского были сомнения относительно того, что Коянаги сумел сделать это сам, с уже вспоротым животом. И доверительно попросил врача «установить исключительно для нашего сведения, совершил ли Коянаги над собой харакири один или же ему кто-то помогал (по ритуалу самоубийца распарывает себе живот, а ближайший его друг должен перерезать ему горло)». Однако абсолютно точно определить это так и не удалось.
Но обратим внимание на следующую деталь. Коянаги находился в квартире не один, а с помощником Матсумото. И коллега Коянаги, Фунао Миякава, изложил следующую версию событий: «Помощник Матсумото работал в соседней комнате, когда услышал зовущий его спокойный голос Коянаги, он вошёл в его комнату и увидел Коянаги со вскрытым животом и перерезанным горлом; Коянаги также спокойно отдал ему ряд распоряжений и последними его словами было предложение известить посольство; он держал себя героем; Коянаги был уже мёртв, когда приехали чины посольства».
Показания Матсумото вызвали определённое недоверие. Если у Коянаги уже было перерезано горло (якобы им самим), как он мог «спокойно» отдать ряд распоряжений и передать просьбу известить посольство? Словом, нельзя исключать, что горло военному атташе перерезал Матсумото, по просьбе самого Коянаги.
Церемонию прощания устроили торжественную. Присутствовали практически все дипломаты, «кроме мексиканца, монголов и тувинцев». Их вообще не оповестили, возможно, потому, что организацией занимался дуайен дипкорпуса Эрбетт, не рассматривавший этих дипломатических представителей как достойных внимания. Были венки от дипкорпуса и от Реввоенсовета СССР. Эрбетт ехидно поинтересовался у Флоринского, будет ли венок от «Вечерней Москвы». На что шеф протокола довольно-таки жёстко ответил, что «не слышал вопроса и посол должен это понять». В то же время и Эрбетту, и другим дипломатам он доказывал, что «такому самураю, каким показал себя Коянаги, вероятно, было в высокой степени безразлично, что о нём может писать «Вечёрка», но что на него мог, конечно, подействовать факт состоявшегося его отозвания из Москвы».
Урну с прахом захоронили на Донском кладбище, а вечером, после траурной церемонии, НКИД устроил приём, и прошёл слух, что многие дипломаты на него не придут — в знак протеста. Но пришли почти все.
После истории с Коянаги японцы всех неженатых дипломатов в Москве заменили на женатых, чтобы уберечь от «медовых ловушек». 3-й секретарь посольства Масахира Шимода говорил, что «японские жёны хотят во что бы то ни стало жить в Москве с мужьями». А Эрбетт «в повышенном тоне» заявил, что «секретари французского посольства получили распоряжение не встречаться более с русскими женщинами, чтобы не попасть как бедный Коянаги в провокационную историю» и что «его секретари могут встречаться с русскими рабочими, крестьянами, советскими чиновниками, но никаких женщин».
Шеф протокола резонно возразил, мол, невозможно строить общение с представителями страны пребывания по гендерному признаку и полностью избежать контактов с прекрасной половиной советского населения по определению немыслимо. Упомянул в этой связи свою жену, полпреда Александру Коллонтай и других номенклатурных дам, которым разрешалось встречаться с иностранцами. Но сверхэмоциональный Эрбетт не желал ничего слышать и «закончил нервным выкриком, что его решение непоколебимо, ибо он не может рисковать честью французского посольства».
«Неприятность», случившаяся с военно-морским атташе, омрачила отношения Москвы и Токио, которые вскоре начали стремительно ухудшаться. Но это уже совсем другая история...Автор: А.Рудницкий
Источник: "Дилетант"
Опубликовано 22 января 2023
| Комментариев 0 | Прочтений 806
Ещё по теме...
Добавить комментарий
Из новостей
Периодические издания
Информационная рассылка: